Вы здесь
"В зеркале мгновений" Издательство "Тимпул" (1989 г.). Елена Шатохина
 Хотя лето было еще в разгаре и не могло быть намека на осень, вот уже какой день подряд к вечеру собирался дождь. Он падал на город внезапно и тяжко, параллельно неся струи и расчерчивая нотные станы проводов в косую линейку. Музыка дождя трепетала в глянцевых свежих листьях, бурлила в водостоках, шуршала шинами машин, медленно прокладывающих дорогу в сплошном водяном потоке.
Хотя лето было еще в разгаре и не могло быть намека на осень, вот уже какой день подряд к вечеру собирался дождь. Он падал на город внезапно и тяжко, параллельно неся струи и расчерчивая нотные станы проводов в косую линейку. Музыка дождя трепетала в глянцевых свежих листьях, бурлила в водостоках, шуршала шинами машин, медленно прокладывающих дорогу в сплошном водяном потоке.
В комнате стало темно, и только лаковый бок породистого рояля играл бликами. Крышка рояля была деловито откинута, как чехол пишущей машинки или любого другого рабочего инструмента, готового призвать в самое неподходящее время,— днем или ночью. А передо мной, чуть сутулясь, ходил композитор, старательно огибая углы рояля, будто и не замечая его вовсе, но одновременно ни на минуту о нем не забывая.
Было тихо. Только приглушенно звучал магнитофон, который раз повторяя то место из кинофильма «Мария, Мирабела», где все сказочное население приходит к общему согласию и робко вступают скрипки. Музыка забирала все выше и выше, одновременно расширяя свой «горизонт», становясь всеохватнее...
— Ну, разве не хорошо? Ведь хорошо!— неожиданно наклоняет голову композитор, исподтишка косясь на меня, как бы проверяя первое впечатление слушателя и потенциального зрителя тогда еще не до конца отснятого в Бухаресте советско-румынского фильма по сказке Иона Крянгэ, музыку к которому он так напряженно слушал минуту назад.
Дело было, как вы понимаете, несколько лет назад, но - первые впечатления, говорят, самые сильные, и поэтому стоило об этом вспомнить.
Можно утешиться, что я не оказалась в единственном числе среди тех, кто принимал и по-прежнему принимает «размашистую» манеру общения Доги, его живость и подчеркнутую обыкновенность за «игру на себя», за самовлюбленность, наконец!
Он же — себя слушал. Он, может быть, даже умолял втайне разделить его муки и сомнения. Он провоцировал на откровение.
Был тот сложный для каждого художника период, когда работа над одной вещью уже закончена, но он от нее «не отошел», она мешает взяться за другую и все тянет оглянуться назад: что получилось? Наверное, закончив музыку к «Марии, Мирабелле», Дога столкнулся с тем нехитрым законом жизни, что все высказанное имеет над нами гораздо меньшую власть, чем утаенное. И теперь стало пусто, стало — никак. Что же полагается делать с этим новым состоянием после напряженных бессонных ночей, он в очередной раз не знал. Душа изнывала. Ей нечем было наполниться. Вот он и ходил как неприкаянный и призывал в свидетели мгновения.
Как не вспомнить ту встречу во время летнего ливня, щедро омывшего воспетый им Белый город. Удачной ее вряд ли можно было назвать, любопытство было разожжено, блокнот распухал от каких-то отрывочных, не идущих к делу записей, но, увы, они не складывались в одно, а сам он уходил все дальше.
— А знаете-ка что,— вдруг бодро произнес Дога,— приходите на мой авторский вечер. Вот после него и поговорим...
Отфутболил, конечно. Маленькая месть за то, что задают-то ему обычно вопросы похожие. И об одних и тех же вещах. Он же по праву считал себя шире и больше. Нелепо, конечно, что запаздывает фирма «Мелодия» с пластинками его произведений, уже вышедших за рубежом, и почему-то редко исполняются его произведения в жанрах симфонической, хоровой, вокальной, камерно-инструментальной музыки (а этого жаль до сих пор, замечу попутно, ибо там Дога — новый и неизвестный) . И что стали поистине модны — поочередно — несколько песен и пьес—«Мне приснился шум дождя...», «Мой белый город», «Вальс» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», «Баллада» к спектаклю И. Друцэ «Птицы нашей молодости», сонет, ну еще, конечно, другие, нещадно эксплуатируемые в качестве всевозможных заставок на радио и телевидении. И не было, казалось, ничьей вины в том, что «неуниверсальные» вещи Доги — «Струнный квартет», баллада «Чайка надежды» с характерным выдерживанием звука — свободным и замедленным, как паренье в воздухе, да и многое, многое другое были малоизвестны. И все-таки чувство невольного стыда за это однобокое узнавание оставалось. Что же это такое?— думалось мне.— К Доге приковано внимание, но оно, выходит, не понимание, не оценка труда во всем его объеме, сложностях и противоречиях.
Художник творит себя в разных объемах, он состоит из совокупности, а не из частностей, мы же упорно отбираем какую-то одну черту только потому, что она показалась нам наиболее характерной для этого композитора. Это несправедливо и вредно. Забегая вперед и опережая рассказ о «первом впечатлении», скажу, что со временем — этому помогли концерты, пластинки, передачи — знание Доги изменилось и стало глубже, куда целостнее, но тогда было именно так: рядом с композитором-песенником, пишущим для эстрады и кино, существовал другой, не такой популярный композитор со своим лирическим, хочется сказать, даже минорно-глубоким миром страданий, выношенных мыслей. Потом он доказал! Еще как доказал «Лучафэрум» право на драму в музыке и разработку психологическую, но тогда до балета оставалось еще лет шесть...
И пришлось идти на концерт, один из первых его авторских «серьезных» концертов.
Чаша концертной летней эстрады, так называемого «Зеленого театра», была похожа на гигантское ухо, повернутое к бесконечным, битком набитым, как на стадионе, рядам. Ждали любимого и популярного композитора, не маэстро, не автора учебника по теории музыки (об этом упоминать до сих пор «не модно»). И как бы отвечая на это нетерпеливое обожание и любопытство, он вышел играть первую вещь сам. Спрятал свое смущение и улыбку, безотказную для друзей и знакомых и излюбленную фотографами. Лицо сразу стало другим, с резкими морщинами вдоль похудевших щек, посветлевшее... Руки — крупные («да-а,— говорит он, — руки-то у меня того... скорей чернорабочего...»), настороженно молчат на клавишах, пока говорит оркестр. Ну ничего такого от созданного журналистами образа оптимиста, у которого внутри завод на тысячу лет, про энергию которого ходят легенды: за неделю — в трех городах, за день — в трех творческих союзах, на двух студиях, да еще в разных комитетах заседает, и в филармонии, и в театре репетирует. Везде ждут, везде нужен, везде подзаряжает своим аккумулятором бодрости, потому что вслух то и дело на что-то него дует и чрезвычайно в этом «выплескивается». А музыку пишет каждый день. У него это зовется формой. Ее необходимо держать: ни дня без нотной строчки.
— Я не живу, я несчастен, если мне не работается. Я ловлю себя на том, что мне совестно смотреть на людей, когда иду по улице: зачем я живу? Чем заслужил? Я прячусь, я ворчлив, словом,— несчастен. Но если мне писалось, я выхожу на улицу, ловлю взгляды, рад заговорить, засмеяться пустяку, и такое чувство, что солнце толкается в стены домов, что ему тесно, как тесно сердцу в груди...
Он играл много, и вновь — вальс. И под аккорды его колдовского вальса, который стал живой классикой современной музыки, вальса, терпкого от горьких предчувствий, из последних сил чертили вечереющее небо стрижи.
Эмиль Лотяну признался, что тот вальс на озере — живой нерв фильма «Мой ласковый и нежный зверь», «тончайшая паутина звуков, сотканная из грез и былей, порывов и предчувствий...» Музыка без слов написала чью-то драму души. И пока звучала эта музыка, думалось, что если бы ее кто-то вздумал изобразить живописью, то на полотне проступили бы, вернее всего, легкие мазки светлых пастельных тонов, светящиеся насквозь. А разве нет в его музыке импрессионистически-мгновенного? Это музыка впечатления, она поэтична, прозрачна, не течет, а летит. Она расширила пространство драмы, протянула куда-то за экранное изображение линию судьбы героев. И так получалось с музыкой Доги к кинофильмам — особенно лотяновским — не раз.
Концерт между тем как-то незаметно кончился. Пели, конечно, Чепрага, Ивануш и начинающая Лазарюк, кто-то еще из «звезд». А потом были автографы, цветы, беспомощное, наивное, растерянное лицо Доги. На него постоянно направляли телекамеры. Маститые подходили к нему и что-то ласково говорили, трогая за локоть. Его уже принимали таким, какой он есть.
 Он вошел в музыку не как иные — от беккеровского рояля с пожелтевшими от фамильного пользования клавишами, бесконечных родительских стояний над душой, гамм, стерших детские пальчики до нежных розовых мозолей. Не было портретов великих в рамках и повторения их имен с пеленок. И все же музыка прорвалась сквозь раннее сиротство, войну и бедность. Музыка жила в самодельной мандолине из отжившего свой век решета, в игре на барабане на сельских свадьбах, в наушниках опять-таки самодельного приемника. Хотите верьте, хотите нет: но мальчиком он мог в наушниках тяпать и полоть в огороде, и мать понимала его. В мире все звучало, и она первой сказала: «Иди, учись, раз такая охота...» И дала на дорогу только штаны, перешитые из старых отцовских, несколько одолженных рублей. И если теперь спрашивать, а откуда в нем столько упрямства, терпения, ожидания, так они оттуда — из детства. Удивительно, но талант на препятствия отвечает еще большим усилием души. А все легко доставшееся часто губит вкус к жизни и стремление идти дальше.
Он вошел в музыку не как иные — от беккеровского рояля с пожелтевшими от фамильного пользования клавишами, бесконечных родительских стояний над душой, гамм, стерших детские пальчики до нежных розовых мозолей. Не было портретов великих в рамках и повторения их имен с пеленок. И все же музыка прорвалась сквозь раннее сиротство, войну и бедность. Музыка жила в самодельной мандолине из отжившего свой век решета, в игре на барабане на сельских свадьбах, в наушниках опять-таки самодельного приемника. Хотите верьте, хотите нет: но мальчиком он мог в наушниках тяпать и полоть в огороде, и мать понимала его. В мире все звучало, и она первой сказала: «Иди, учись, раз такая охота...» И дала на дорогу только штаны, перешитые из старых отцовских, несколько одолженных рублей. И если теперь спрашивать, а откуда в нем столько упрямства, терпения, ожидания, так они оттуда — из детства. Удивительно, но талант на препятствия отвечает еще большим усилием души. А все легко доставшееся часто губит вкус к жизни и стремление идти дальше.
У него были учителя, которых он нежно любил и которым до сих пор верно благодарен.
Вообще с учителями — дело сложное. Они у всех были. Разные. Одни — профессионалы, которые дали знания, другие — дали и знания и еще что-то... трудно определимое, что душу укрепляет, как цементирующее вещество.
Доге повезло, что у него в детстве был Федот Мурга, слепой музыкант, который учил ребят играть на нехитрых инструментах, были сельские свадьбы, была атмосфера, что называется. Конечно, Федота Мургу не сравнишь с преподавателями, которые заложили «школу». Им Евгений Дога благодарен, и часто, и охотно называет в своих интервью консерваторских профессоров, как он признательно называет именитых единомышленников — Иона Друцэу, Владимира Курбета, Иона Унгуряну, Марию Биешу, но есть какие-то моменты жизни, лично дорогие, не переложимые на звания, на идеи, на школу.
Дога говорит: Я попал в удивительный плен... плен доброты, когда мне было лет четырнадцать. Я учился в музыкальном училище и у меня был чудный учитель, который ни разу не сказал слово «надо». Павел Иванович Бачинин обучал меня игре на виолончели. Я никогда не слышал от него фраз типа: если ты не будешь заниматься, из тебя ничего не получится. Просто он сам так жил, что иначе не могли жить его ученики. Он приходил до начала занятий, чтобы «разыграться», и я должен был прийти и вместе с ним «входить в форму». Речи не могло идти, чтобы увильнуть. Он был такой старенький и вставал в пять, чтобы со мной заняться, разве я мог его подвести? Не знаю, почему он меня опекал. Не потому, что я отставал, тут было что-то другое. Как товарищ, как собрат по искусству он говорил мне заговорщически: «Знаешь, я играл эту пьесу утром, там есть интересная такая штуковина... слушай...» Э, тут я не прав, он мне говорил «вы». Что мне ужасно нравилось, потому что в селе так обращаются к людям уважаемым, к старшим.
Какая фраза! Какая фраза!— говорил он, играя,— и закрывал глаза, выражая восторг перед этим неземным местом этюда. Своей бескорыстной любовью к музыке он меня заставлял ее любить столь же страстно. Перед этим я занимался год с другим педагогом и еле водил смычком по струнам. Он же учил понимать саму душу музыки, отдавая ей свою. Я получил от него в наследство не школу, а целую программу жизни, какой-то зашифрованный код, который до сих пор пытаюсь расшифровать... Учителя были в училище, потом — в консерватории. Но так случилось, что Дога, как снаряд замедленного действия, долго таил в себе взрывчатую силу. Долго по консерваторским меркам тянулось это композиторское молчание. Естественно, что профессора, видя его «прыжки»— то в класс виолончели, то в класс композиции, пожимали плечами: так серьезные композиторы не начинают. Нужна система. Нужно медленно и неуклонно, от малого — к большому. И сочинять, сочинять непрерывно!
Он эту систему ломал уже тем, что «молчал» и после консерватории. Тогда в нем что-то происходило. В себе себя найти — вот что оказалось мукой. В детстве он сам мастерил себе велосипеды. Сам — санки. Все — сам. Он так привык, и судьба его в этом смысле не баловала. В музыку он тоже инстинктивно на готовенькое прийти не хотел. Санки скользили в детстве очень весело... Даже стебель кукурузы, из которого он тщился извлечь богатство целого звука,— звучал. Почти как в кино (но было же, было!) слепой деревенский музыкант, «последний из лэутаров», ставил его руку на скрипке, и она слушалась. Теперь, после академической школы, когда открылся целый неизведанный доселе мир музыки, классической, подавляюще богатой, «перешагнуть» через это знание оказалось труднее. Первая серьезная дипломная работа — вокально-симфоническая поэма «Мама»— пылилась на полке. Увы, после нее писать он больше не мог. Ухо искало звук. Единственный, свой. А в это время жизнь шла. Ему прочили аспирантуру, был на подходе его учебник по теории музыки, он уже преподавал в училище... мало ли кто успокаивался на этом?
Но что-то толкало все изменить. Работал концертмейстером в оркестре МолдТелерадио. Жизнь в оркестре — это будни. Иногда — затягивающие. Когда музыканты в паузах репетиций играли в шахматы или просто болтали — он один, как вспоминают коллеги, сидел за роялем: импровизировал вместе с известным в то время композитором-самородком Дмитрием Георгицэ. Это была еще одна школа. Воплощенное старание. Кто-то взглянет, вздохнет: «Какой из тебя концертмейстер, Женя? Ты же ком-по-зи-тор!».
После репетиций Дога садился на мотороллер и гнал вдоль старых кишиневских кварталов, сплошь затянутых кудрявой порослью винограда, втайне злясь на себя и торопя судьбу. И судьба заторопилась.
Мотороллер заглох в самом неподходящем месте — напротив здания старого оперного театра. Чинить его пришлось на глазах доброго десятка зевак. Среди них стоял такой же отчаянно молодой, как и Дога, начинающий поэт и режиссер Георгий Водэ. Последний мучительно соображал, где он мог видеть этого парня с мотороллером. Наконец-то вспомнил, что это тот, чьи песни распевают студентки, подошел к Доге, изрядно измазанному маслом, и поинтересовался, не желает ли тот попробовать себя в кино.
Дальнейшие события были, как взрыв. Как пожар цветенья. Развязыванье языка. Назовите начавшуюся жизнь как хотите — она сделала выбор и определила судьбу, надо думать, навсегда. Тогда была «эра» кино — казалось, все молодые творческие силы республики попали под его обаяние и пришли на «Молдова-филм»— Эмиль Лотяну, Георгий Водэ, Влад Иовицэ, Валерий Гажиу, Михай Волонтир, Ион Унгуряну, многие другие, и всем им хотелось заговорить в кинематографе на своем неповторимом и заново рождающемся в новом искусстве языке. Для этого, кроме прочего, нужна была музыка. А, может быть, и в первую очередь — она, потому что она была у всех с детства — какое же молдавское село без музыки и какая же семья без певца или танцора?
Так начался у Доги тот бурный, неровный и счастливый период в кинотворчестве, который продолжается и по сию пору. Больше ста озвученных фильмов, лучшие из которых, конечно, ранние лотяновские, собравшие золотой урожай на многих международных кинофестивалях. В Сан-Себастьяне и в Палермо, в Бухаресте и в Москве жюри неизменно на равных с работой режиссера отмечало вклад композитора — «редкую, поэтичную музыку, ее полное слияние с изобразительным рядом».
Что была для Доги их начавшаяся с Лотяну дружба и сотворчество? Совпадение? Удача? Выигрыш судьбы? Ни то, ни другое, ни третье.
Шли 60-е годы. Сейчас, вспоминая то время, все художники, вошедшие тогда в творческий возраст, признаются, что это был май их жизни. Хлынула поэзия, интерес к ней был огромен, появлялись в кинематографе, в музыке, в живописи все новые имена. Романтика была в цене. Художественный поиск тоже был какой-то светлый, приподнятый над бытом, свободный от сомнения. Видимо, это как-то отвечало внутреннему миру композитора. Более того: возник повышенный интерес к национальному колориту. А мир молдавской музыки отвечал и романтизму, и щедрости радостного открытия. Им — Лотяну, Биешу, Унгуряну, Друцэ, Доге и другим было тридцать — пора творческого взлета — и с ними начался бурный расцвет молдавского искусства. И тогда же Дога, начавший работать в кино, увидел огромное незаселенное пространство современной молдавской музыки, на котором ему предстояло взрастить и особую свою музыку — кинематографическую и эстрадную.
И потом. Творцу для полного выражения замыслов гораздо чаще, чем мы думаем, бывает нужен близнец по духу. Так бывает необходим режиссеру актер, художнику-иллюстратору — свой писатель, поэту — чуткий переводчик, певцу — композитор, а композитору, если он работает в кино,— «свой» режиссер. Двое находят на стыке искусств адекватные образы, резонансное понимание. Так и стали в кинематографе естественным продолжением, долгим эхом друг друга бьющее через край красками, образное, неистовствующее искусство Лотяну и характерный договский интонационный стиль, опосредованно связанный с народными традициями. Им обоим неосознанно хотелось поломать рамки утвердивших себя к тому времени кинообразов и разработки темы как таковой. Вот они и плеснули на экран цыганской вольницей, дорогой, ветром, и в общем — романтикой. И по сию пору Лотяну не сторонник логических, «выверенных» концовок. Не любит их и Дога. Обрыв, недосказанность — или несказанность?— вот его любимый финал.
Кем-кем, но рационалистом в искусстве он не был.
А перекличка судеб Лотяну и Доги? У обоих воспоминания о бродячих музыкантах-лэутарах, о народных мелодиях. Оба слишком близко стояли к живой воде народного творчества, чтобы не зачерпнуть полные пригоршни чудодейственного напитка, прибавляющего силы не одному поколению художников. И пусть музыковеды препарируют истоки его произведений, работая над диссертациями, пусть откапывают баркарольную ритмику песни «Мне приснился шум дождя» или удивляются смелой модернизации договских эстрадных песен. Пусть нам объясняют характерный повтор музыкальной фразы композитора. Но пока что-то никто не объяснил одного: чем вызвано спокойное самостоятельное существование Доги среди довольно обширной плеяды композиторов среднего поколения, каждый из которых составил себе имя — Паулса, Скорика, Артемьева, Амирханяна, Плакидиса и других?
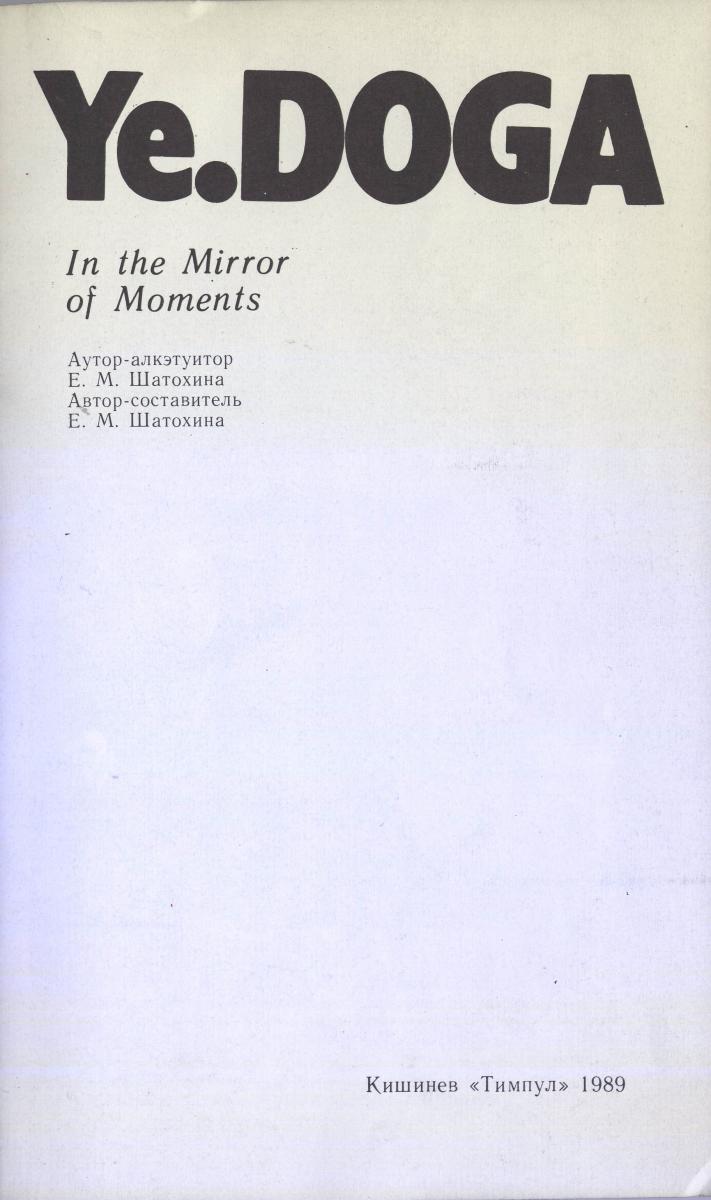 Между тем, Дога существует с ними наравне, но как немногие — независимо и защищенно, благодаря верно найденному своему стилю, не узнать который уже нельзя. Он может отдать дань современным ритмам, но мимоходом, как бы не до конца веря в серьезность сочинения такой музыки. Вот он написал музыку к фильму «Танцплощадка». Сколько упреков сразу посыпалось. А собственно — почему? Аранжировка, все краски современной музыки играют вовсю. Он словно спросил: хотите раскрепоститься в незатейливом танце?— пожалуйста. Он легко напишет изящную дискотечную безделушку. Но тут же какой-нибудь романс, медленную песню. Очень светлую. Вот это — уже его точно.
Между тем, Дога существует с ними наравне, но как немногие — независимо и защищенно, благодаря верно найденному своему стилю, не узнать который уже нельзя. Он может отдать дань современным ритмам, но мимоходом, как бы не до конца веря в серьезность сочинения такой музыки. Вот он написал музыку к фильму «Танцплощадка». Сколько упреков сразу посыпалось. А собственно — почему? Аранжировка, все краски современной музыки играют вовсю. Он словно спросил: хотите раскрепоститься в незатейливом танце?— пожалуйста. Он легко напишет изящную дискотечную безделушку. Но тут же какой-нибудь романс, медленную песню. Очень светлую. Вот это — уже его точно.
Он остается лириком в душе.
Когда-то Светлов сказал, что чем быстрее летит время, тем медленнее должен думать писатель. Как и вообще художник. Кишинев по сравнению с другими крупными промышленными городами еще хранит в себе уют и тишину провинции. Она располагает к углубленному без суеты погружению в тему. Парки. Цветы. Зелень. Сонный полуденный жар. Но не только патриархальная тишина — разумеется, относительная — нужна дереву его таланта.
Он здесь, в Молдавии, начался, обрел форму после нехолящих ножниц судьбы, долгого роста, и здесь начал свой подъем несдерживаемой силы, сбросив изначально все влияния, и теперь свободный, владеющий своей темой и поиском, стоит «в кругу расчищенных дерев».
Эк загнули, какой образ высокоштильный закрутили. И не страшно?— мрачно усмехается Дога, как всегда недовольный, когда несколько дней подряд его отрывают от заветных часов сидения за роялем — с камертоном и секундомером по одну сторону, нотами и бумагами — по другую.
А мне на этом вашем пышном дереве страшно бывает. Я, как мальчик, полезший за самыми вкусными плодами наверх,— и от земли далеко и спускаться нельзя, и хочется эти плоды сорвать, и ветви тонкие качаются, а отступать некуда...
Тут было впору изумиться. Ведь не далее как в прошлый раз довелось услышать лишенное и тени неуверенности жизнестойкое признание: «Я только одного боюсь. Вдруг мне что-нибудь помешает. Случайная болезнь, другая нелепость. Ерунда, в общем. Сейчас пишу как никогда легко, пишу радостно. Слышу, сколько еще ненаписанной музыки».
Он тогда думал о «Лучафэруле» Эминеску.
Он не решался к нему подступиться. То есть были написаны какие-то сцены балета, но он их отложил.
Дога так вспоминает об этом:
Меня манил сюжет «Лучафэрула». Но готовым к нему я себя не считал. К классикам я отношусь... своеобразно. Положим — классики висят на стене в золоченых рамках. А если нет табуретки или лестницы, чтобы стать вровень? Что говорить об Эминеску, если он не портретом сияет, а звездою в небе? До нее и лестницы не хватит. И все-таки мы с Эмилем Лотяну когда-то решили балет по Эминеску создать. Но балет необычный, со словами, ибо как можно обойтись без слова Эминеску? Оно настолько емко, сильно и выразительно, что вряд ли ему можно найти адекват-заменитель. С самого начала мне стало ясно, что это будет нечто вроде балета-оперы, балета-оратории... Мыслилось даже, что балет пойдет в сопровождении чтецов... Чтецы из сценической постановки ушли в силу технических причин, они остались в партитуре. Может быть, когда-нибудь они появятся и вместе с ними балет, таким, каким он был задуман.
Начал я писать балет еще в семьдесят третьем году. Но как только дошел до характеристики Лучафэрула — остановился. Я был просто не готов. Я не нашел для него музыкальных слов. Я лихо взялся, а потом остановился. И еще десять лет работал — писал песни, музыку к кинофильмам, массу других вещей, пока не приступил к видеофильму для детей «Этот фантастический мир» и почувствовал, что где-то рядом с этой ирреальной музыкой и лежит вечный мир звездного неба, где жил Лучафэрул.
Потом я болел. Много думал... И вдруг быстро, за рекордно короткий срок — два с половиной месяца — создал балет. Можно сказать, писал обеими руками, лишь изредка касаясь рояля. Написана эта вещь с кровью и ничего изменить в ней мне не .хотелось бы и сейчас.
Когда я «остыл» и стал анализировать, а как же балет написан, я нашел в нем закономерности и связи. Это и для меня было открытием, потому что не всегда осознаешь музыкальную цель, но она сама рождается, когда внутренне к ней готов.
Что касается концепции балета...Не думаю, что в ее основе — борьба добра со злом. Или наоборот. Лучафэрул — не Демон Лермонтова, он созерцатель по сути, а не борец. Скорее — он художник, наблюдатель. Он поднялся в небо, не боровшись, не теряя, не жалея... Но а его одиночестве есть тоска. И сила. Вечная, холодная и в то же время беззащитная в обреченности. Я столкнул, сам того не понимая, четыре темы. Любопытно, что Лучафэр не «захотел» взять тему любви, «боролся» со мной до конца. Ему она оказалась чужда, так вела музыкальная логика. Зато неожиданно для меня в балете появилась тема самого Эминеску — «тема рощи» обернулась его темой, его поэтической тоской о прекрасном и любовью ко всему живому, земному с оттенком грусти...
Так говорил Дога. Он еще долго объяснял, почему Эминеску, почему самая сложная и мучительная его поэма выбрана для балета. И получилось, что классики вечно свежи для нас тем, что они брали самую суть жизни, самую ее сердцевину — душу человека, его метание между мечтой и явью, а разрыв их был трагедией для душ идеалистичных, а соединить одно с другим не было возможности, и Эминеску писал о себе...
Известная поэма Эминеску долго лежала невостребованная композиторами и балетмейстерами, драматургами и постановщиками. Еще бы — такая глыба. «Лучафэрул»— подумать боязно и трепетно: в нем философия, лирика, притча и жизнь, сколько там тем, они как большие и меньшие кубики — один в другой вкладываются. Эминеску заложил в поэму свою главную личную мысль, но она была так человечна, что стала бессмертна и универсальна. Судьба художника и его мысли о своей судьбе, о невозможности идеального счастья и романтический максимализм желания этого счастья всегда грустно волнуют, когда перечитываешь ее.
— Я болел и много думал, как всегда бывает во время болезни, о разных вещах, и о смысле жизни. И вдруг балет «созрел», и за два с половиной месяца был создан, я.еле-еле успевал записывать, даже не правил — можете посмотреть партитуру. Она не черновик. Она чистовик.
Чистовик...
Дога болел тяжело, для него это было непривычное состояние. И вот, когда он уже двинулся к выздоровлению, но в душе была еще слабость и размягченность от болезни, он стоял у больничного окна. Снова шел дождь. Но он не был крупным и теплым, как в летний вечер. Он был мелким и секущим, осенним, нескончаемым... Он стоял у окна и смотрел, как идут люди под дождем. Они шли суетливо и быстро, спеша спрятаться в подъездах, в домах, в автобусах... И как-то остро пришла мысль, что вот.время прошло, а кажется, что чего-то главного не написано. Того главного, что определяет жизнь, очень большого, что имело бы отношение ко всем... К людям, которые спешат мимо и не замечают его. Что-то повернулось внутри при этом состоянии и захотелось работать, работать, работать... Он написал балет.
У Доги существует своя рабочая теория «накопления энергии». Не берусь утверждать, что это — теория «вечная» и что ее не сменит через несколько лет другая, как изменится, возможно, и характер его творчества. Итак, по его мнению, процесс накопления идет медленно, но его надо запрограммировать в себе, а капсула внутри художника — уж не с гремучей ли смесью творческого взрыва?— меж тем полнится, где-то на грани томления складываются в образ краски, запахи, звуки. Образ тревожит, но он неопределен. Ему нужна норма.
— Создавая, я всегда ищу конкретные рамки, конкретный «колышек привязки». Нас, людей, связывает одна общая тайна. Один моментик совпадения. Он всегда есть. Если он услышан кем-то в твоей музыке, человек оказывается во власти твоего произведения. Он будет потом думать о своем, пусть думает, но отныне он — твой соучастник. Кстати, и музыкант, когда пишет, тоже проходит через стадию «момента», то есть попадания в точку. Происхождение этого попадания — тайна. Скажем, сроки меня поджимают. Мне надо писать как можно быстрее. Но, увы, не идет! Сажусь читать какую-то книгу.
Осталось три дня, а я все читаю. А потом чувствую — пришло! Только бы уложиться в сроки. Что-то мне задало необходимую формулу, что-то эмоциональное, трудно объяснимое, ибо герои только что прочитанной книги жили совсем иной, не близкой мне жизнью. Но формула задана, и по ней я расшифровываю содержание своих эмоциональных запасов. Они, оказывается, были... И помог толчок, образ, намек...
... Где-то в Москве поэт Владимир Лазарев смотрел по телевизору «Огонек», на котором выступали космонавты. И вдруг Севастьянов лирически признается, что в кабине космического корабля ему грезился шум дождя, туман, да так ясно, что он ощутил влажное стылое дыхание земли на своем лице.
Лазарев не смог утерпеть до утра, тут же набрал Кишинев, и Дога, который по счастью любит работать допоздна, тут же поднял трубку.
— Это же песня!— восторженно заорал Лазарев.— Понимаешь! Мне приснился шум дождя и шаги твои в тумане! Однако чудо не так уж часто встречается. Дога хотел спать, да и вообще заказные песни для него небольшая находка. Он предпочитает идти к поэту исподволь, внезапно вспомнить стихи, и сразу писать... А тут... Но сон не шел. Он лежал и думал, как это удивительно, что человеку в космосе снятся сны. Ничего странного, что земные, но чтобы переживать во сне все ощущения и запахи! Он быстро встал и записал мелодию, и на такой скорости, что даже испугался: не прихватил ли «чужого»?
История появления на свет «Вальса» из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь», кстати, тоже красноречива «моментиком», о котором говорил композитор.
Лотяну имел обыкновение снимать фильмы под фонограмму. Принципиально. Может быть, потому, что так он яснее видел динамику кадра, или музыка помогала ему чувственно проникнуться смыслом сцены — неизвестно. Вся съемочная группа томилась в ожидании — вальса к ключевой драматической ситуации фильма не было, не было «кардиограммы» фильма, как потом образно назвал вальс Лотяну.
... Все это время Дога, однако же, не бездельничал — он пропадал в музее Глинки, искал вальсы времен 80-х годов XIX века, но найти ничего не мог. Заимствовать было нечего. Правда, Дога не придавал особого значения этой сцене в фильме — и сам Лотяну не говорил о ней как о центральной. Он и на вальсе не настаивал. Оленька должна была танцевать, но почему под модный вальс? И все-таки Дога чувствовал: должен был быть вальс, и хотя понимал, что «после Штрауса писать вальсы — самоубийство», набрасывал, набрасывал скорописью ноты.
И .буквально за один день до съемок наступила расплата. Ворвался Лотяну и коротко спросил «где»?
Дога стал наигрывать что-то банальное, как он сам сейчас говорит, а в стороне лежало то, что он написал так, как бы «для себя». И Лотяну, заставив проиграть это «для себя», убедил, что это оно самое и есть. Вальс не мог не изменить и не одухотворить сцену.
Острота момента, кажется, помогает композитору «думать» быстро. Песни «Откровение», «Мне не все равно», «Зеркало мгновения» на слова Григоре Виеру, составляющие своего рода антологию любовной, песенной лирики, мелодичные, осязаемо нежные, были написаны якобы между делом, «случайно», в гостинице Бухареста, в разгар съемок «Марии, Мирабеллы» и было не до лирики — приходилось работать днем и ночью. И все же песни писались вопреки всему— вылились, как тоска по родному, по любимому, что оставалось дома. Композитору тогда полюбился «тихий» нежный инструмент мелодика, такой простой, что звук его кажется похожим на звук детского пианино, продающегося в «Детском мире», но он его устраивал для щемящего, тоскующего, что он и перелил в песни.
Догу стали узнавать с первых нот.
Нехорошо понимать по-другому это узнавание — как повторение. Это свой мир, его позывные. Вот и все. Как мелодия прозы, ее характерные образы, как мазок художника — он и должен быть узнаваем.
Дога назвал один из последних музыкальных сборников «Откровение». Название по-своему закономерное, обозначающее его кредо. Кредо художника.
Это не случайно выбранное название еще и потому, что наступила осень его жизни, вернее, ее ранняя, самая щедрая, раскованная пора плодоношения, откровенная до конца.
Возраст должен был как-то добавить солидности, оседлости, основательности его существованию. Ничуть не бывало. Дога верен себе: он страстен, неугомонен в поиске. И уже собирается писать балет «Вэнансия», да что там,— работает над музыкой вовсю. Это будет новый балет «о добре и зле»— о столкновении реакции и прогрессивных сил (за основу взята освободительная борьба латиноамериканцев). Можно быть уверенными, что и там, в этой борьбе, найдет себе дорогу светлая нота, нежная и щемящая.
Эта нота присутствует и в самой трагической по замыслу песне на слова Р. Рождественского «Человеческий голос», песне — призыве ко всем живущим: остановиться и оглянуться, как прекрасна «наша земля». По сути она — антивоенная. Если бы песня была написана «набатно», она бы не произвела того впечатления. Свободная, широкая мелодия — сама красота, как наша планета, природа на ней, люди, их любовь и желание счастья, и потому нежность песни, ее тревога потрясают с большей силой, нежели удар колоколов. Она — как шепот среди крика...
Он парадоксален, потому что продолжает... развиваться. Он не любит себя зачехлять. Не любит рамок. «Если бы я чувствовал, что моя судьба для меня чехол, моя республика для меня чехол — я бы воспротивился...»— в этом ответ тем, кто боится, что он чего доброго — переедет в Москву (понятно, там возможностей больше).
— Зачем?— возражает Дога.— Здесь начала расти моя лоза, я ее кормил, подрезал, холил, сейчас она вздумала взобраться на ограду и заглянуть на соседний участок — почему я должен ее обрезать? Ездил и буду ездить, пока это мне интересно. Если у художника нет вкуса к общению, он как художник потерян, и как человек — в первую очередь.
Он всегда так говорит. Резко, но точно, особенно когда мысль беспокоит его и ищет выхода.
Вообще, интервью с ним — особая статья. С ним интересно говорить, потому что никогда не знаешь точно, что он скажет.
Опасно давать ему определения как композитору, человеку... Дайте ему определение, решите за него, в каком жанре он лучше существует и привычнее' для слушателя, как он вырастет новым, для другого определения. Самое трудное определение — сказать про славу, популярность. «Слава?— Дога хмурится, думает...— Это когда несешься на бешеной скорости в автомобиле и фары успевают высвечивать только кусты при дороге, а поля, леса, воды, реки, дома, все остается во мраке и в тени. Должно быть наоборот. Свет художнического взора должен видеть широко до бесконечности».
Он не сказал: чтобы видеть так даже при славе и популярности, нужно обладать даром этого видения. Вечным. Неразменным.
Мы стесненно и неохотно произносим эти слова: дар, озарение. Будто ждем, что что-то еще, сверх нашего ощущения, должно подтвердить и узаконить то, что давно и точно почувствовали. А сказав, понимаем, что никак не определить то, что старались. Почему? Талант никаким процессом творчества, никакой школой, влиянием, трудолюбием не объяснишь. Он появляется внезапно и достаточно редко, он уникален, как дубовые рощи и как вода в источниках, рождающаяся в глубине земли — он достояние народное.
Вода — это то, что всем понятно. Музыка — тоже. О народном же начале музыки Доги сказано немало. «Благословенны творцы, которые колдовским огнем своих сердец сближают человека с человеком, народ с народом. Евгений Дога — один из них»,— писал поэт Григоре Виеру.
Бесспорно, что фольклорные мотивы прочно поселились в музыке Доги. Говорить об этом — значит и вправду подтверждать давно всем известный факт. Музыка народа везде оживает — в его сонетах, хорах, в балете. Там слышится мотив хоры, а там быстрый жок... Это не значит, что он замкнулся исключительно в возможностях своей национальной музыкальной стихии. Им созданы симфония, три струнных квартета, балет, целый ряд хоровых и вокально-симфонических произведений, две музыкальные комедии, музыка к нескольким драматическим и телевизионным спектаклям, семь (!) сборников песен, произведения для детей и музыка более, чем к 100 кинофильмам — художественным, документальным, мультипликационным... И все, кто слышал хотя бы большинство этих произведений, легко уловит в музыке Доги и влияние классиков, и цыганской мелодии, и городского русского и молдавского фольклора начала XX века, и многое, многое другое... Так что же все-таки назвать народным?
Наверное, дело не только в наследии духа своей нации (оно налицо), но еще и в том, что Дога как большой художник обладает редчайшим даром быть понятым как раз народом. А это и есть самая большая народность творчества. Быть духовным носителем сути своего народа и, максимально выражаясь, добиваться полного слияния с его интересами и чаяниями.
Это высшее, более высокое, чем слепое следование фольклору, выражение и проявление народности.
Не об удовольствии от исполнения вещей Евгения Доги хочется сказать. Как бы ни были хороши его песни, пьесы, балеты, его музыка, окружившая нас, несущаяся с экрана телевизора и в кино, удовольствие от исполнения ее и от слушания исчезало с последними тактами. Ощущения, бывшие при этом,— забылись. Навсегда оставался центральный образ музыки, ее, если так можно сказать, силуэт. Прекрасный тем, что он был точным, верным слепком внутренней скрытой жизни каждого из нас. И мы увидели себя в зеркале мгновения.
... Опять шел дождь. Уже апрельский, тот, что помогает освободиться почкам от чешуи, чтобы брызнул свежий цвет и окончательно наступила весна. И Дога опять работал. Жизнь как бы сделала еще один круг и вернулась к самой себе: он писал музыку к «Марии, Мирабеле»... № 2. В разгаре были съемки, его снова ждал Бухарест, Ион Попеску Гопо, две смешные девчушки (уже другие, конечно) и их приключения в незнакомом мире электроники, диодов, проводов... Опять он много ездит по республике, интересуясь сохранением памятников, опять письма и звонки, заходит народ. А весенний дождь все идет и очищает все вокруг. В нем есть что-то от его новой песни «Кынтэ-мэ амор», песни — лауреата 1987 года, есть любовь и свет. Дога шутит, что дождь сопровождает его во все важные моменты жизни, и ни один авторский вечер не обходился без дождя, наверное, потому что он по зодиаку Рыба и обожает воду...
Идет дождь. Весенний. Освобождающий. Дождь надежды.
"В зеркале мгновений"
Издательство "Тимпул" (1989 г.)
Елена Шатохина
1997-2017 (c) Eugen Doga. All rights reserved.




